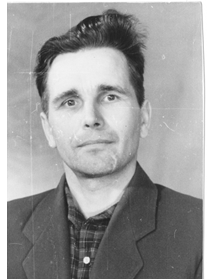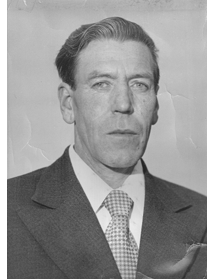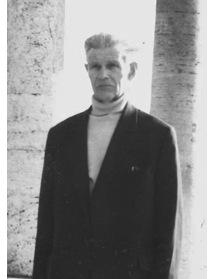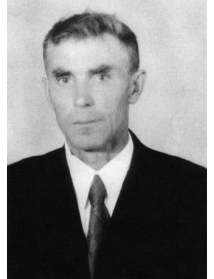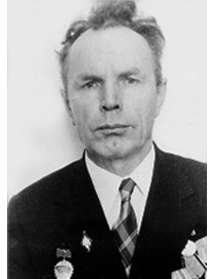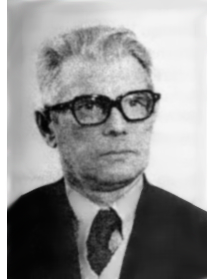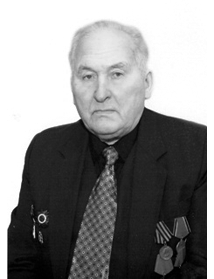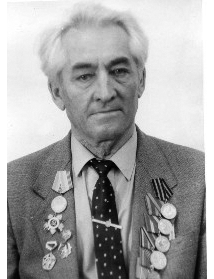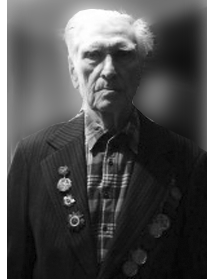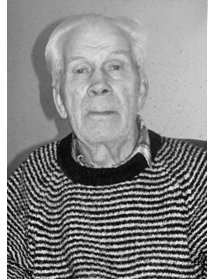«Мое блокадное детство»
Автор Осипова Людмила Григорьевна
Родители мои были родом из Белоруссии. Мама родилась в 1896 г. в деревне Понизовье, недалеко от города Шклова, в семье зажиточного крестьянина Петра Ивановича Вишнякова. В молодости дедушка был красивым парнем – высокий, статный, голубоглазый, он слыл завидным женихом, и деревенские девушки заглядывались на него, но он посватался к дочери мелкопоместного дворянина Евдокии и получил согласие ее родителей. Видимо, отец Евдокии был не очень богат, если позволил дочери войти в семью простого деревенского мужика. Молодые поженились и жили в полном согласии долго и счастливо. У них было 12 детей, в живых осталось семеро: 5 сыновей и две дочери. Мама была младшей в семье, ее сестра Вера молоденькой девушкой ушла в монастырь и приняла постриг. После революции, когда монастырь закрыли, Вера решила вернуться к родителям в Понизовье. Ехала в переполненном поезде на подножке вагона, уцепившись руками за поручни. На одном из переездов она не удержалась, сорвалась и разбилась насмерть. Веру похоронили на старом деревенском кладбище, напротив деревни, за рекой, около двух молоденьких берез.
Мама вышла замуж в двадцать семь лет. Мамин брат Александр, дядя Шура, говорил, что она была красивой девушкой, похожей на отца и сватали ее более двадцати раз. За парня, который был моложе мамы на 3 года и нравился ей, родители ее не отдали, считая, что если муж моложе жены, то значит и глупее. Одного маминого жениха я увидела на фотографии в семейном альбоме. Бравый офицер с пронзительными глазами, затянутый в ремни, стоял держась за эфес шашки. На обороте было написано: «На добрую память многоуважаемой Агафии Петровне. Поминайте в часы веселья, а я жизнерадостен был есть уважающий Митя. Город Ново-Николаевск Томской губернии 28 ноября 1917 года. 23-го Сибирского стрелкового запасного полка прапорщик Д.Сидлеров».
Сидлеров не вернулся в родные края, судьба его осталась неизвестной и мама вышла замуж за моего отца крестьянина Григория Андреевича Шестакова, жившего в деревне Лаговщина в двадцати километрах от Понизовья. Отец был старше мамы на 17 лет. В Лаговщине молодые жили сначала у родителей, а потом отец построил свой дом. Здесь родился мой старший брат Леня и через 6 лет я.
В Лаговщине жили со своими семьями родные братья отца Константин и Хрисанф. Константин крестьянствовал, а Хрисанф служил в волостном управлении урядником. После революции, боясь ареста, он уехал в Петроград. Недалеко от Фонтанки, на улице Войтика, в одном из домов он нашел заброшенную дворницкую и стал ее ремонтировать. Получилась небольшая, но зато отдельная квартира с комнатой, кухней и двумя окнами, смотрящими в стенку соседнего дома. Хрисанф стал там жить и работать дворником. Он очень тосковал по семье и изредка тайком приезжал к жене и детям.
У Константина подрастал единственный сын Володя. Высокий и красивый, он был очень похож на мать, и тетя Катя в нем души не чаяла. Его призвали в армию, и он стал служить моряком на Балтике. После армии Володя поступил учиться в педагогический институт, жил в общежитии и у дяди Хросанфа. В один из приездов в деревню Хрисанфа арестовали, долго о нем не было ничего слышно, а потом жене сообщили, что он расстрелян. Наступила коллективизация. В Лаговщине раскулачивали крепких хозяев и середняков. Дядя Костя и тетя Катя от беды уехали в Ленинград. У отца и мамы в хозяйстве была лошадь и корова. Отец, боясь, что семью могут выгнать из дома, запряг лошадь, посадил на телегу меня и Леню, привязал к телеге корову и оправил маму к моей бабушке в Понизовье, сам же уехал в Ленинград к брату.
На невысоком холме, утопая в яблоневых садах, располагалась небольшая (всего 14 дворов) деревенька Понизовье. За домами тянулись огороды в сторону широкого луга и неглубокой речки. За речкой, на взгорке, белело стройными березами кладбище, где покоились наши предки и бедная тетя Вера. Дедушки уже не было в живых. В отцовском доме жил дядя Шура и бабушка. Дядя Шура не завел свою семью и всю жизнь оставался холостяком. Говорили, что его любимая девушка накануне их свадьбы бросила его и вышла замуж за другого. Всю нерастраченную нежность дядя Шура перенес на своих племянников и племянниц. А их у него было предостаточно. Дома братьев Ивана и Андрея стояли недалеко от отцовского дома. У Ивана подрастали два сына и дочь. У Андрея четыре дочери, да еще мы приехали с Леней. Дядя Шура очень привязался ко мне. Я стала его любимицей. Иногда взяв гитару в руки, а играл он чудесно, он командовал мне: «Люся, начинай!» Я вставала в позу, подбоченивалась и притопывая ногой пела:
Чия эта хата, чия эта вишня,
Чия эта девка за ворота вышла.
Моя эта хата, моя эта вишня.
Моя эта девка за ворота вышла.
Все меня любили и хвалили. Я росла жизнерадостной смешливой девочкой с большими серыми глазами и круглой мордашкой. Взрослые звали меня «мурлячок». Братец Леня, большой озорник, за что его не любили, ревнуя меня к родственникам часто давал мне подзатыльники и называл кратко и просто «мурло».
Милое Понизовье. Здесь прошли самые счастливые дни моего детства. Весело было просыпаться солнечным летним утром и, глядя на светлые блики, играющие на полу, думать, какой большой и удивительный день ждет тебя впереди. Позавтракав, я выходила на улицу, где уже ждал меня мой приятель Колька Ковалев. Был он презабавной личностью. Лет шести, маленького роста, с короткими волосами ежиком, с круглыми синими глазами и облупленным носом, он был одет в полотняные штаны до колен с одной помочей через плечо. Говорил быстро, захлебываясь. Слова так и сыпались у него изо рта, как горох, за что дядя Шура прозвал его «балабол». Мы бежали мимо огородов с горки к речке, оттуда неслись радостные крики ребят. Солнце стояло высоко и палило немилосердно, в траве стрекотали кузнечики, медовый ветер от цветущей кашки ласкал лицо. Накупавшись, лежали в траве и глядели на белоснежные облака, плывущие в небе. Колька мечтательно говорил: «Вырасту, стану летчиком, улечу далеко-далеко за море». День таял быстро и незаметно. С деревенскими ребятами играли в прятки, лапту, ворона. Когда начинало темнеть, девочки-подростки Галя и Зоя, дочери дяди Андрея и тети Дуни, разводили костер в маленьком лесочке за домом. Дети садились кружком. Варили молодую картошку в чугунке, рядом ставили на тарелке нарезанный хлеб и малосольные огурчики. Ах, какая это была вкуснятина! Казалось, ничего лучше этой еды не было на свете. Горел костер, в небо улетали золотые искры, ребята рассказывали страшные сказки. За спиной стояла темнота, поблескивали звезды в небе, а на душе было жутко хорошо и немного страшно.
Летом умерла моя бабушка. Мне было так ее жалко: была она доброй и ласковой и очень любила меня. Когда она лежала в гробу, на ее губах появлялся маленький белый комочек слюны, мама вытирала его платком, а он появлялся снова и снова. Зачем ее хоронят, думала я со страхом, ведь она живая и, наверно, просто уснула.
В конце августа приехал из Ленинграда отец: мне надо было поступать в школу, и мы стали собираться в дорогу. Приходил Колька и стоял у двери, исподлобья наблюдал, как мама собирала вещи. Я видела, как он переживает, и мне тоже было грустно. Так не хотелось уезжать из деревни, жалко было покидать дядю Шуру, Кольку, деревенских ребят, нашу маленькую светлую речку, цветущий луг и лес. Дядя Шура запряг в телегу лошадь, и мы стали прощаться с родственниками. Колька стоял поодаль и растерянно смотрел на меня. «Ну, дети, прощайтесь»,- сказала мама. Я подошла к Кольке, взяла его за руку, и мы оба вдруг неожиданно заревели. Мы сели на телегу и поехали, дорога спускалась с горки мимо луга и речки, и, пока я видела, Колька стоял на откосе и махал рукой. А потом и деревня, и его маленькая фигурка скрылись из вида. На станции предстояло прощание с дядей Шурой. Я плакала, обнимая его, и видела, что и его глаза полны слез. Когда поезд тронулся, он бежал около вагона, растерянно улыбался и что-то говорил, говорил, махая рукой.
После деревенского раздолья каким маленьким и тесным показался мне наш ленинградский двор-колодец, мощеный крупным булыжником и заставленный поленницами дров. Мы жили на улице Некрасова, недалеко от Невского проспекта в трехэтажном доме, в бельэтаже, занимая одну комнату в коммунальной квартире. В трех других жили соседи.
Перед войной я закончила два класса и не поехала в Понизовье, потому что отец обещал мне достать путевку в пионерский лагерь. Леня уже был там прошлым летом, и рассказывал, как хорошо и весело ребята проводили время. Ночью, когда лагерь засыпал, мальчишки заворачивались в простыни,как привидения, стучались в окна палат, где спали девочки, и пугали их. Но не суждено мне было поехать в лагерь: в июне началась война.
Мирная жизнь оборвалась внезапно и неожиданно. Почти всех мужчин из нашего дома забрали в армию, ввели светомаскировку, окна стали плотно занавешивать, стекла окон заклеивали полосками бумаги накрест. Взрослые чистили чердаки, заносили туда песок и воду для тушения зажигательных бомб. Ночью по небу шарили прожекторы и слышался гул самолетов. Отца не взяли в армию по возрасту: ему шел шестьдесят первый год, и учительница в школе думала, что это мой дедушка. Работал он столяром в одном предприятии на Фонтанке, около Калинкина моста, далеко от дома и часто оставался ночевать у дяди Кости. По радио передавали тревожные сводки: враг рвался к Ленинграду.
Многие предприятия, детские сады и школы стали эвакуировать из города. Поехали в эвакуацию со школой и мы с Леней, но на станции Остров поезд остановился, и нам велели выходить из вагонов. Нас повели в ближайшую деревню и разместили в домах колхозников по 3-4 человека. Говорили, что немцы бомбят железную дорогу и ехать дальше невозможно. Был разгар лета, цветущий луг напоминал мне понизовье, но радости не было: слышался гул канонады, а над деревней, почти касаясь макушек деревьев, пролетали немецкие самолеты. Через несколько дней за нами неожиданно приехала мама и повела нас на станцию. Станция была забита беженцами: женщины, старики, дети сидели на узлах и чемоданах и ждали поезд на Ленинград. Вдруг кто-то крикнул: «Самолеты, немцы!» — и все побежали в сосновую рощу напротив. Немецкие самолеты прошли низко, бросая зловещую тень между сосен. Гул моторов оглушил меня. Я бежала рядом с мамой и думала, что сейчас полетят бомбы, но, слава Богу, этого не случилось, и мы вернулись на станцию. Вскоре пришел поезд, и мы благополучно доехали до Ленинграда.
Многие ребята из нашего дома остались в городе. Остался и Алька Гриневский, мой ровесник, живший на первом этаже. Мы с ним дружили, мальчишки дразнили нас и писали в подворотне: «Алька + Люська = любовь», но мы с ним не обращали на это внимания и часто ходили вместе в кино. Недалеко от нас на улице Восстания был маленький кинотеатр «Луч», там по много раз мы смотрели «Дети капитана Грандта», и Алька мечтал, что, когда вырастет, обязательно станет капитаном.
Брат Леня решил стать военным, его приняли в артиллерийскую спецшколу, и он с гордостью говорил, что им скоро выдадут военную форму. После возвращения мама вышла на работу, работала она в столовой военного училища кастеляншей. Ее директриса Евдокия Ивановна спросила:
— Агафия Петровна, поедете ли Вы с семьей в эвакуацию?
— Нет, будь что будет, но мы останемся в Ленинграде.
— Тогда, дорогая, запасайся продуктами, война есть война. Наверно, скоро введут продовольственные карточки.
По совету Евдокии Ивановны мама стала закупать крупу, муку, макароны, сахар, масло, жир, соль и спички, покупала в магазинах и в столовой, многие люди в городе тогда запасались продуктами. В столовой после обедов оставались куски белого и черного хлеба. Мама собирала этот хлеб и сушила сухари. Скоро у нас на шкафу лежало уже 2 мешка сухарей. Отец поехал за город и у крестьянина купил свежую свинину, ее засолили и поставили в маленьком деревянном бочонке в комнате около двери. Как нам потом пригодились эти продукты! Никто не ожидал, что зимой настанет страшный голод и каждый сухарик, каждый кусочек хлеба будет на вес золота.
Ввели продовольственные карточки в июле, мы с Алькой ходили в соседний магазин за хлебом. Рабочим давали 800 гр. хлеба на день, а иждивенцам и детям по 400 гр. Витрины магазинов закладывали мешками с песком и зашивали досками, в торговом зале царил полумрак. Окна парадных в домах закрывали фанерой, а по вечерам в коридорах горели синие лампочки с пугающим мертвым светом. На стены домов наклеивали плакаты «Родина — мать зовет», «Ленинградцы, защитим родной город». Особенно мне запомнился плакат «Дави фашистскую гадину». Под гусеницами советского танка корчилась раздавленная змея с головой орущего немецкого солдата в каске. Радио работало беспрестанно и призывало население к выдержке и бдительности. Под Ленинградом шли тяжелые бои, звучали знакомые названия: Тихвин, станция Мга, Луга, Кингисепп.
Наши две соседки по квартире эвакуировались, и управдом запечатал их комнаты. Остались только соседи Смирновы и мы. В комнате Смирновых проживало четыре человека: Ольга Федоровна, ее сестра Нина Федоровна с годовалым сыном Вовкой и бабушка. Нина Федоровна, еще молодая женщина, работала дворником, и через нее мы узнавали все городские новости. Однажды мимо нашего дома проходила рота солдат, и муж Нины Федоровны забежал в квартиру. У него было так мало времени, что он даже не зашел в комнату. Втроем с Вовкой на руках они стояли обнявшись в прихожей и целовали друг друга. А потом солдат так же быстро исчез, как и появился. С войны он не вернулся и Вовка рос без отца. Училище, где работала мама, эвакуировалось, и мама осталась без работы, ей выдавали иждивенческую карточку, и теперь она целые дни была дома. Помню в начале сентября выдался теплый солнечный день, работали уличные репродукторы, по радио читали стихи. Девяностопятилетний казахский поэт акын Джамбул Джабаев слал мужественным защитникам Ленинграда слова восхищения и поддержки:
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Предстоят большие бои,
Но не будет врагам житья.
Спать сегодня не в силах я.
Пусть подмогой будут, друзья,
Песни вам на рассвете мои.
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
В сентябре немецкие самолеты…читать продолжение
Благодарим Ксению Кочеткову за предоставленную информацию.